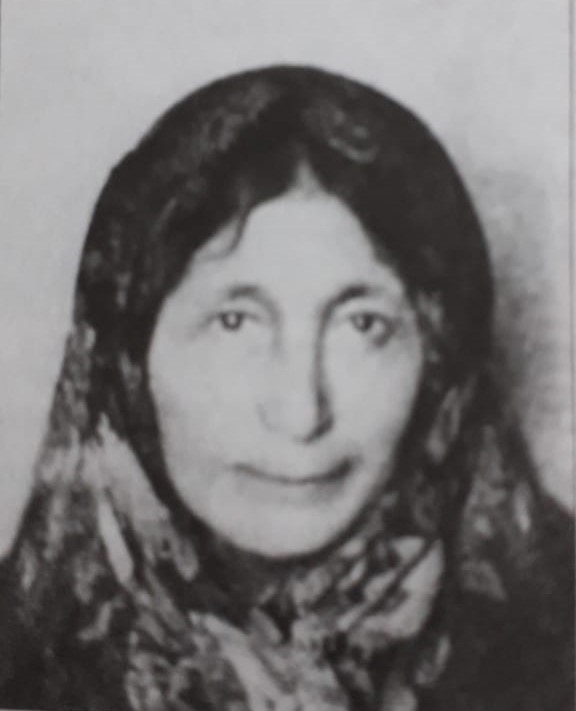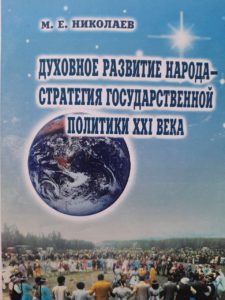Я родился и вырос в заполярном селении Русское Устье, что в низовьях Индигирки, где снежный покров земли держится 8 месяцев. Трудные условия – труднее не выдумать.
В нашей семье было пятеро детей: четыре сына и дочка. Детство и отрочество наше пришлось на тяжелое военное время. В этих условиях надо было не только накормить и обогреть семью, но еще заплатить налоги, выполнить усиленные поставки рыбы и пушнины. Поэтому работали все – и дети, и взрослые. На больше всего доставалось женщинам-матерям.
Женщина на Севере должна была делать все – ловить рыбу, охотиться в пургу и в полярную ночь ездить на собаках, колоть дрова, долбить лед… Кроме того, она владела десятками других необходимых для жизни профессий и навыков: закройщица, швея, скорняк, обувщик, рыбообработчик, повар, сетевязальщик, лекарь, воспитатель и т д. и т. п. Женские ежедневные хлопоты начинались с разведения огня ранним утром и заканчивались с отходом ко сну.
Хорошо помню, швейная машинка в нашей семьей появилась в марте 1941 года. Всю войну наша мама обшивала чуть ли не половину жителей Русского Устья. Эта машинка до сих пор хранится у моей сестры Юлии Гавриловны.
Наша мать Матрена Ивановна Чикачева была неграмотной. Но когда начался ликбез, охотно посещала его занятия, поэтому научилась читать по складам. Хорошо знала счет и обладала феноменальной памятью. Нас всегда удивляло то, что если прочтешь четверостишие – она тут же могла повторить его наизусть.
Наш дед Николай Гаврилович Чикачев, по прозвищу Гавриленок, еще до революции был, пожалуй, единственным грамотным человеком в Русском Устье. Он имел небольшую библиотечку. Долгими зимними вечерами устраивал «громкие читки». Было заведено читать наизусть стихи и даже целые поэмы. Почти все знали «Конька-Горбунка», «Генерала-Топтыгина» и других.
После смерти деда, будучи учениками 5-6 класса его традицию продолжили мы. Читал родителям вслух «Дубровского», «Капитанскую дочку», «Робинзона Крузо» и других. Старшие слушали с удовольствием, иногда комментируя поступки героев.
Родители всячески поддерживали нашу учебу. Иногда даже вслух мечтали, чтобы мы стали образованными специалистами, такими же, как «тамошние» приезжие люди. Они устраивали дома «Вечерки» — заставляли детей петь, плясать и рассказывать стихи. Когда мы приезжали из Чокурдаха на каникулы, они в первую очередь спрашивали: «Ну что, привезли новые песни и рассказы?» Поэтому, несмотря на тяжелые послевоенные условия, все пятеро детей окончили школу на «отлично». Трое из нас получили высшее образование, двое – среднее специальное.
Мать наша всю войну проработала бригадиром рыболовецкой бригады. Коллектив, руководимый ею, выловил и сдал государству для фронта более сотни тонн первосортной индигирской рыбы. Матрена Ивановна одной из первых в районе была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Старшие не назойливо, но упорно прививали нам неписаные правила человеческого поведения. Теперь, когда прошло столько лет, иногда думаешь о том, сколько же было в их бесхитростных заповедях миролюбия, душевности, высокой морали, а может, интеллигентности, выработанных вековыми народными традициями и обычаями. Главная заповедь «Не укради»…
Помним еще один наказ матери: «Никогда не говори о людях плохо. Услышал сплетню – молчи, не рассказывай другим. Если люди и узнают об этой сплетне, то пусть только не от тебя».
Неуклонно мы соблюдаем заповеди родителей в межнациональных отношениях: «Никогда не обижай юкагира. Они благородные люди. Помни, ты сделаешь добро один раз, он тебе сделает трижды».

У нашей семьи был друг юкагир Наричан (Е.И. Трофимов). Когда он появлялся в Русском Устье, обязательно привозил нам подарки – свежее мясо, ровдугу, пыжика. Из нашей избы он никогда не уходил без ответного подарка, для этого у матери всегда был наготове «Н.З». Иной раз она сокрушалась: «Ох, совсем провианта не осталось. Не дай Бог, юкагиры придут – угостить будет нечем». Кстати, она с трудом, но могла общаться с тундровиками на их языке.
Помня заповеди отцов и матерей, русскоустьинские ребята, учась в средней школе, проживая в интернате совместно с детьми разных национальностей, придерживались с ними самых добрых отношений. Мы могли поссориться, даже подраться между собой. Но допустить подобное к сверстнику-юкагиру – никогда!
Уезжая на учебу, мы надолго отрывались от родной среды – не виделись с родителями по 4-5 лет. Мать, естественно, очень скучала. Иногда уединенно плакала и молилась. О каждом ребенке болело материнское сердце. Удивительно – каким-то особым чутьем она узнавала, что именно с конкретным ребенком что-то неладно. Она могла с поразительной точностью назвать день и час, когда ее ребенку было трудно. При встрече могла иногда сказать: «В тот день ты болел или кушать хотел, поэтому вспоминал нас с отцом. У меня поэтому правую титку кололо».
В Русском Устье медицинский пункт открылся только в 1943 году. А до этого роды принимались на дому. Мама вынуждена была исполнять роль акушерки своих сестер и невесток. Поэтому многие племянники ласково и уважительно называли ее «Бабушка-тетя Мотя».
Вспоминаю натруженные материнские руки. Господи, сколько они переделали на своем веку! Невольно приходят на память стихи Николая Рыленкова:
Я помню руки матери моей,
Хоть нет уже давно уже на свете.
Я рук не знал нежнее и добрей,
Чем жесткие, мозолистые эти.
Я помню руки матери моей,
Суровой ласки редкие мгновенья,
Я становился лучше и сильней
От каждого ее прикосновенья.
Алексей Гаврилович Чикачев — заслуженный работник,
народного хозяйства ЯАССР, почетный гражданин Аллаиховского и Нижнеколымского улусов
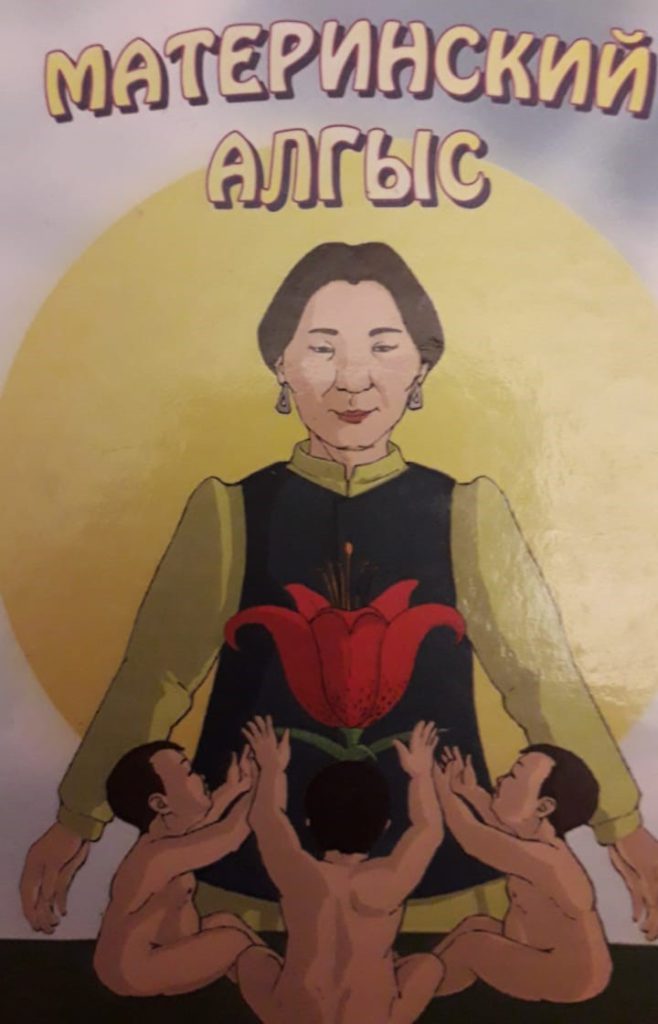
Литература:
А.Г. Павлова, Материнский алгыс, НИПК «Сахаполиграфиздат», 2006.
Подготовила А.И. Гоголева, к.ф.н.
![]()